Наталия Черных: Не сразу верь слову «боль»
9 июля, 2018
АВТОР: Александр Чанцев
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

А.Ч.: От чтения Радова у меня было в чем-то схожее ощущение, ухода в мало- (для меня, возможно) референтные далекие слишком области… А у нас же беседа маргиналов, смайл. Тема смерти важна и в твоей «Хронике»? Героиня там тоже будто в посмертном существовании, Москве Бардо Тхёдол — о себе она избегает говорить «я» (оно отчасти и умерло, отмерло, видимо?), одежда приобретается и уходит как своего рода телесная оболочка…
Н.Ч.: Хаха. Не стоит забывать, что слово «маргинал» для «просто читателей» и «просто деятелей» СМИ не самое симпатичное. Не вижу ничего симпатичного в маргиналах, но, видимо, другие хуже.
Увлечение Тибетскими практиками среди волосатых было очень популярно, видимо, это уже устоявшаяся форма и речи, и сознания. Раз волосатый, значит Индия или Тибет. К Ваджраяне стремились самые решительные и смелые, а мои знакомые новосибирские рокеры просто говорили: «В репу (то есть в голову) Востоком шибает».

Из цикла «Соляристика»
Но для героини моего романа смерть — понятие конкретное. Она внезапно встретилась с очень сложной болезнью, и после этой встречи жизнь и смерть для нее — нечто очень простое, без лишней философии. Она постоянно находится в этих понятиях, это утомительно. И потому ей интереснее мягкие и небольшие, смягчающие грозный фон впечатления. Она много размышляет на разные темы: каково было мое предназначение в этой жизни? что я оставлю после себя? что будет после моей смерти и есть ли там другая, новая жизнь? (особенно во фрагменте о неудавшемся самоубийстве). Иногда ей посылаются уверения в этой самой будущей жизни, она радуется и благодарит за них. Вопросы жизни: семья, творчество, труд — ввиду смерти отходят на второй план.
Возникает паллиативный образ. Человеку, даже окруженному сотней родственников и сотрудников, в некоторые моменты жизни лучше побыть одному. Умирающий лучше живого понимает ценность таких моментов. Ильке они как-то были открыты, а ей едва тридцать, и она еще не прикована к постели, а вполне бордо рисует и собирает вещи для нового переезда. Известно, что смерти обычно предшествует малообъяснимое оживление жизненных сил. С Илькой нечто подобное происходит, но это состояние растянуто во времени, и в этом есть некий высший смысл. Она готовится к смерти, но еще не слегла.
В начале романа Илька размышляет как заурядный творческий человек. Я гений, от меня останутся гениальные произведения, но они никому не нужны, даже мне, так что смерть в общем равна жизни. Это довольно здоровая точка зрения, но несколько инфантильная. В конце романа Ильке открываются окна в новое пространство, скажем, в новую жизнь, даже на материальном уровне: перепадает нечто вроде внеочередной зарплаты за ее рисунки. Илька начинает размышлять иначе, у нее как бы вырастают глаза на небе, и она смотрит через небесные очки. Это незаурядная точка зрения, ее очень трудно понять и принять, но она есть, и ее ни отстранить, ни уничтожить.
Постмортем Ильки выражается нетипично. Обычный взгляд на постмортем: мы все умерли, все плохо, я тебя люблю, дайте нам пожить еще, а нет, так сами поживем. А Илька словно бы разливается по всему пространству-времени, не теряя личностных свойств. Отсутствие «я» у Ильки (хотя одно «я» есть, и в самом неожиданном месте, я пропустила, но потом посчитала его даже полезным) не обезличивание, а указание на присутствие личности. Можно сказать, Илька сказала «я» один раз в начале романа и повторяться не хочет, потому что ячества не любит. Но притяжательных местоимений в романе довольно много, они заменяют «я» вполне.
С одеждой — то же, что и с местоимением первого лица: «юбка-личность». Илька выбирает для ношения, для общения, только вещи-личности. Из нескольких вещей создаётся круг единомышленников, ансамбль одежды выглядит как некая экклесия.
Героиня очень тонко и остро чувствует взаимоотношения вещи и тела. Одежда как тело, а тело все одухотворено и являет собой материальное выражение души. Иногда тело и одежда меняются местами: омертвевшее тело согревается как неким теплым духом шерстяным свитером. Даже нижнее белье — личность, хотя это наиболее сложное в отношениях сообщество: бюстгальтеры, слипы, шортики, просто трусы. То же и с тканями. Характер есть не только у кроя вещи: длина, ширина, свободный или узкий, — но и у ткани, и порой он более важен, чем характер кроя, потому что характер ткани (например, для верхней одежды) и определяет крой. Более того, одно из первых открытий Ильки в мире одежды — это характер цвета и то, что характер цвета может скрыть недостатки характеров кроя и ткани. Илька идет на цвет как на зов свыше.
При таком развитом понятии личности трудно говорить об обезличивании себя (нелепое получается словосочетание: обезличивание себя). А в общем, средний уровень человека сейчас — быть зомби, киборгом или роботом. Так проще и отчасти интереснее.
Зачем быть человеком, да еще живым? Едва открыл глаза — и начинаются переживания, а вечером, глядишь, еще и совесть придет с петлей в руке и с косой за плечами. Кто это, неизвестно, потому что совесть как имя забыто, но жутко и порой прикольно. Брунхильда, например, ее можно назвать.
В завершение разговора о смерти расскажу один смешной случай, дело было в самом начале девяностых. Он показывает, как видит смерть моя героиня, системные люди, и мое видение. Я в нем выгляжу немилосердно, но речь в данном случае не обо мне.
У меня была прекрасная знакомая, которой я дала системное имя и таким образом стала ее системной крестной. Повторю, что я была человеком системы, но системной жизнью почти не жила, по аналогии с половой и наркотической.
Сначала эта знакомая покуривала травку и делала это изысканно и с душой. Затем стала писать неплохие декадентские стихи. Невесть почему ей выстрелило в голову, что делает она нечто сверхобычное, и в стихах у нее прямо-таки масса наслоений смыслов. Повторяю, дело было в 1990—1991, знакомая моя была далека от неофициальной культуры, но интуитивно чувствовала очень много, и высшее образование получила не просто так.
Один арбатский поэт, человек харизматичный и талантливый, идею со слоями разрабатывал, но эти слои у него были видны только через линзу винта, или первитина, самодельного амфетамина. Эти слои висели в воздухе, что ли, тогда. Затем моя прекрасная знакомая перешла на героин и стала писать песни, и тоже думала, что делает нечто сверхобычное.

«Я лечу на ядре, я выхожу в эфир, я вижу мир».
Все это выглядело очень эстетично, но ее словотворчество, отдельно взятое, меня раздражало.
Прошу прощения за длинное предисловие, а теперь собственно случай.
Однажды эта прекрасная знакомая буквально подлетела ко мне возле кафе на Петровке (и здесь юмор: волосатые тусовались недалеко от Петровки!) и заявила, что написала гениальную, самую гениальную свою песню.
И процитировала начало:
«Я люблю тебя, смерть».
В долю секунды в моей несчастной головенке пронеслись все произведения о смерти, которые знала.
Первым, конечно, БГ:
«Здравствуй, моя смерть, я рад, что мы говорим на одном языке».
И надо всеми словесными видениями парила песня Марка Бернеса:
«Я люблю тебя, жизнь!».
Знакомая моя конечно про эту песню не забывала. Но не забыть мало, нужно видеть и продолжение, как припуски на швы.
— И надеюсь, что это взаимно, — ответила я почти машинально.
Бедная знакомая бросилась на меня едва не с кулаками.
Впоследствии ей не раз пришлось чудесным буквально образом избежать смерти от веществ и всего, с ними связанного. Умерла она от долгой печальной болезни совсем недавно.
Смерть без «взаимности» невозможна. Множество людей, особенно в наше время, богатое на административные наказания и локальные войны, мечтают умереть, потому что жизнь стала хуже смерти. Однако смерть к ним не приходит. Потому что нет взаимности. Смерть отвечает на любовь к ней, и важно, чтобы она полюбила тебя.
Возможна односторонняя любовь: ты ее любишь, а она нет, а ее все нет, и тогда мир как будто пуст и сер. А порой она делает только один жест, один поцелуй, и нет человека, или сразу многих, сошедшихся в одном месте и осененных любовью к ней. Я верю, что смерть очень редко приходит к неготовым к ней людям. Это не человек, чтобы согласиться съесть незрелый плод.
А как ты относишься к другим субкультурам? Если бы не была хиппи, то стала бы — панком, кем-то еще?
Субкультура — дело жесткое, иерархическое, комильфо, по модулю. Есть плюс единица, есть минус-единица. Есть элитные клубы и есть стритовые тусовки и дринчкоманды. Порой эти слои пересекаются, я видела, как, наблюдала разных людей и отношения. Дальше «прикола» не шло, но прикол был. Так что вряд ли я бы стала выбирать именно из субкультур. Мне вообще выбор сложно представить.
В конце восьмидесятых меня навсегда ранила светлая тоска умирания, которая была почти во всех лицах, но у волосатых больше, и они рефлексировали, каждый по-своему. Заметь, я ничего не говорю ни об общественном строе, ни о перестройке и прочем. Все это было, но всего человека поглотить не смогло. В волосатых было много панка, на самом деле. В СССР хиппи не было, и панков тоже, а вот волосатые были, и это вполне аутентичная субкультура, давшая ростки и в нынешнюю общественно-культурную ситуацию, и в экономику, и в политику. Мой знакомый волосатый расписывал политику-однокашнику политтехнологии, но тот в них ничего не понимал, а его команда более или менее понимала. Преувеличивать значение волосатых не стоит, но и упразднить его не получится.
В «Неоконченной хронике» субкультуры особенно не фигурируют. Есть наркоманы, кинематографисты, модельеры, как тогда говорили, но нет собственно хиппи, панков, волосатых. А вот в предыдущем романе «Слабые, сильные» именно волосатые и являются главными персонажами.
Если говорить отстраненно, смотря в Сан-Франциско (где никогда не буду), собственно хиппи ведь тоже почти не было.
Грейс Слик, вокалистка «Джефферсон Эйрплейн», модель, прозаик и художница, описывает в мемуарах реакцию публики:
«Они решили, что мы панк-группа».
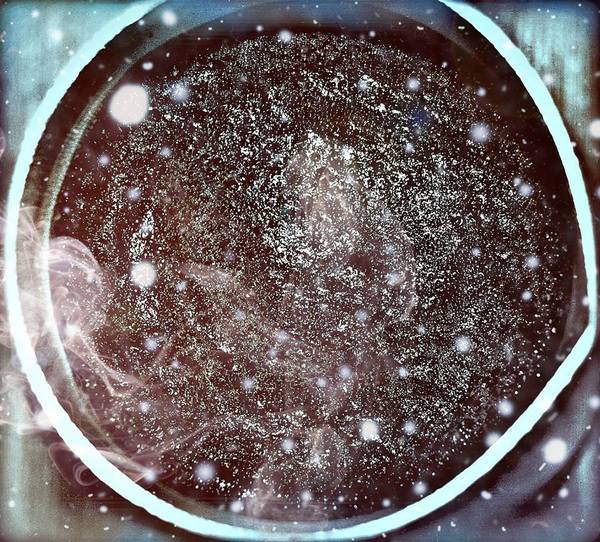
Дело было в первой половине семидесятых, о панке говорили только внутри определенной среды, а представить русскому человеку что-либо более хипповое, чем «Джефферсон Эйрплейн», невозможно. Или возможно, но это их соседи, «Грейтфул Дэд» с лидером-поэтом Джерри Гарсиа. Но тем не менее, лидеры хиппи громко заявляли идеи хиппи и очень многие люди им последовали. Это была уже не субкультура, или субкультура в той же мере, в какой можно назвать субкультурой политическую фракцию. Никто из лидеров культуры — музыканты в первую очередь, потому что это было время музыки, ни поэты, ни прозаики, ни деятели кинематографа не причисляли себя к хиппи или к другой субкультуре.
Однако декоративность субкультур свое дело сделала, и мне было приятно во всем этом хламе копаться. Из субкультур восьмидесятых мне наиболее симпатичны графти, мрачные эстеты средневековья. Из современных ближе готы, но какие-то они хилые, хотя говорю только о тех, кого видела. Стритовые дринчеры восьмидесятых были круче, настоящие воины.
Панк был хорош как взрывчатка, но она долго не живет. К восьмидесятым панк стал условностью, появился постпанк. Я люблю идею панка, вообще панка как человека — харизматичное ядреное создание. У Набокова в «Отчаянии» главный герой говорит такую фразу: «Женщина должна быть свежая и ядреная». Это вообще про панк можно сказать.
Идея так называемых молодежных субкультур как мне кажется в фиксации угасания, в ведении хроники обреченности. Это огромное поле для спекуляции, открытое как молодым, так и старым. Так что не сразу верь слову боль, ее как правило нет.
У западных и наших хиппов, перечисленных тобой (суб)культур есть какие-то принципиальные различия?
Различий масса. Но я не эксперт по субкультурам. Принципиальные — климат, общественные отношения, разница в матобеспечении обществ. А краны текли и матери пили, и отцы били и в США, и в Европе, и в СССР. ДОРы — дети обеспеченных родителей — уходили из семей везде. Вспомнить хоть «Лаки Мэн» Андерсена с Малколмом Макдауэллом. Или таинственный «Уиллоу Спрингс» Шретера. Или драйвовый «Двухполосное шоссе» Монте Хеллмана. О литературе, прозе, и не говорю, кинематограф моложе и его опыт более ценен (для меня).
Кстати интересно, что в поэзии субкультуры не дали такого корпуса, как например, предшествовавшее им бит-дженерейшн. Все же главным была музыка. Но в девяностых и нулевых возникла масса изумительных по стилю и культурно-исторической достоверности мемуаров. Хоть «Жизнь» Кита Ричардса, которую очень рекомендую.
«Неоконченная хроника» касается принципиальных различий между внезапно богатыми и внезапно бедными. Отчасти это роман об инструментах русского бизнеса, в частности — недвижимости.
Для тебя важен и феминизм? Каково его нынешнее состояние — субкультура? Победившая идеология? Идея в становлении?
В отличие от вопроса о субкультурах, который довольно прост и давно решен, вопрос о феминизме — один из самых острых в обществе. Он охватывает и семьи, и даже чайлдфри. Это очень запутанный вопрос, кроме того, что острый, как бы колючая проволока по всему человечеству. Совершенно непонятно, как его решать: ни социально-экономически, ни нравственно, ни религиозно.
Хотя в последнем (имею в виду наиболее близкий мне христианский) аспекте вроде все ясно: женщины-мироносицы первыми увидели воскресшего Христа. Он первым открылся именно женщинам, и первая его беседа по Воскресении состоялась с женщиной, Марией Магдалиной. Отчасти эту беседу предвосхищает Его беседа с Самарянкой, о которой говорит евангелист Иоанн в четвертой главе. Ученики Христовы даже изумились, увидев Учителя, беседующего с женщиной. Святитель Иоанн Златоуст в одной из богословских работ признает и хвалит философскую направленность пытливого и доверчивого ума Самарянки. То есть христианство, в частности Евангелие, признает женскую точку зрения и как бы отдает ей предпочтение перед мужской, впрочем, не декларируя этого.
По феминизму я не специалист, однако, немного знаю о первой, второй и третьей волнах, немного о суфражистках и прочем, что творилось в истории человечества. Мне лично ближе .
Насколько в курсе, это почти стихийное явление. В Вики его основательницами названы Дороти Смит, англо-канадский ученый, и Сандра Хардинг, на основе исследований которой Смит строила свои теории. Речь шла о недостатке научности в социологических дисциплинах. То есть об отсутствии критериев в суждении о месте и роли женщины в обществе. Мысли Дороти Смит порой черпала в наблюдениях за поведением людей из малых этнических групп, например, индейцев.
Наиболее известным ученым и общественным деятелем стенд-пойнт феминизма считается афроамериканка Патриция Хилл Коллинз. Ее взгляды поначалу сильно связаны были с теорией равноправия рас, что в США не просто так, напомню, это круче, чем у нас Кавказ, и с местом женщины в обществе.
Я о стенд-пойнт феминизме знаю очень мало. Важно то, что он не плоский, а довольно объемный. Здесь речь не о прибавке к зарплате и шантаже, а о расах, малых этнических группах, из которых органично возникает идея отличной от общепринятой точки зрения, которую нельзя не заметить. Ничего общего с пресловутой толерантностью, на мой глаз, стенд-пойнт феминизм не имеет, он работает в обратном направлении.
А тем временем мир вокруг активно феминизируется, но эта феминизация приобретает нелепые, порой и вовсе мультяшные формы. Как примеры общие — волна митушности в социальных сетях (метка me too) и ей предшествовавшая «янебоюсьсказать». Все это смущало и смешило одновременно, а мне очень есть, что рассказать, и по сей день. Но я почти не реагировала на эти волны. Именно потому, что мне есть, что рассказать, и именно потому, что я не боюсь сказать. Говорили в основном те, кто хотел избавиться от страха, но, кажется, это не удалось.
Пример частный. Некая фемина, замужняя, считающая себя суперфеминисткой, которой в лучшем случае сорок, а худшем — двадцать пять, в одном из комментов на стыдливый вопрос другой фемины, более юной, крутенько заявила: «Я десятилетиями хожу автостопом». Вряд ли она ходит автостопом два с четвертью десятилетия, но пусть так. Два с четвертью десятилетия это даже не три. То есть она попросту врет или нечаянно слихачила. Можно ее уличить во лжи, но делать этого не стоит, потому что она, скорее всего, человек психически нездоровый, и это нездоровье связано отнюдь не с отношением к ней мужчин. Скорее всего, это метастазы инфантильности, что сейчас так распространено.
Сложность феминистского вопроса и в том, что он является очень удобным инструментом для довольно плоского, даже бездарно-плоского, самовыражения. И отличить драму от психоза инфантильного существа трудно. Начинается колючая проволока и бросание камней. Психоз ведь является частью проявления драмы. Ты против сумасшедших? ты защищаешь насильников? И потом следует почти ритуальное фейсбук-убийство. Но феминизм к мужчинам-насильникам никакого отношения не имеет.
Феминизм — это прежде всего женщина как основная ценность мира, как человек, более совершенный, чем человек, хотя намного более гибкий и нежный.
Сейчас довольно много фем-приколов, условных течений феминизма: радикальный феминизм, киберфеминизм, в которых женщина рассматривается как биологическое оружие уничтожения мужчин, и она сама на себя так смотрит. Это все забавно, смешно и очень метафорично, но все это спекуляции. Подлинный феминизм в другом. Например, у упомянутой выше фемины есть муж и дети. Муж, вероятно, из милых увальней, которые много знают и ничего не делают. А фемина-автостопщица носится по миру и приносит в клюве еду в дом, где ее ждут птенцы и старший птенец-муж.
Моя знакомая фактически в одиночку (муж гений) воспитала двух дочерей, одна из которых уже преподает за границей. При этом великолепно выглядит, муж при ней, а круг ее интересов расширяется с каждым годом: производство косметики, моделирование, психологические практики. Себя она не называет феминисткой, но ее устойчивости и интересу к жизни любой позавидует.
Другая знакомая, религиозно фанатичная, тем не менее сохранила семью, и забитой никак не выглядит. Наоборот, порой мне кажется, что забитыми выглядят именно молодые радфемки, боящиеся насилия. Не затем говорю, что насилия не нужно бояться, это зло, но нужно научиться жить, не думая о насилии, освободить себя от него.
В стенд-пойнт феминизме меня привлекает еще и то, что женщина в нем выступает не как страдательный залог, как угнетаемая, а как полноправный (хотя и несколько занудный) участник беседы полов. Ее никто не прессует, но она вполне может выдержать шквал сексистских эмоций, не переходя на грубость, потому что она женщина, в ее мире нет ничего прОклятого.
Мой знакомый из волосатых как-то рассказал смешную историю, короткий диалог старушек в общественном транспорте. Эта история у него получилась почти как притча.
— Твой-то твоей развода так и не дал? — спросила одна старушка.
— Что ты, у него ведь такие злые глаза! — ответила другая.
То есть зять не дал развода дочери, и он злой человек.
— Злые глаза — это аргумент! — сказал мой приятель. Он оценил женский тип мышления и особую точку зрения.
Вопрос феминизма тесно сплетен и с вопросом инфляции знания как категории.

Современному человеку много нужно уметь (например, быстро настроить гаджет), но много знать не обязательно, даже вредно, потому что нет удобной схемы конвертации и архивирования знания в мозгу. С одной стороны от необязательности знания, с другой стороны от хронической умственной усталости и возникают ошибки в таблоидах, где их вроде не должно бы быть, но сейчас это почти норма. То есть, неграмотность — норма. А если так, то определение грамотности уже затруднено: норма это или нечто отличное от нормы, этот самый стенд-пойнт. Вещи поменялись местами.
Волна протеста против мужского сексизма (а он, конечно есть, и выглядит намного страшнее, чем думают сетевые фемины) приобретает оттенок заказной травли. Фемины начинают послушно и быстро работать на тех, кого якобы ненавидят.
Феминизацию мира можно проследить на материале любого американского и даже европейского развода. Закон выступает на стороне женщины, это всегда потерпевшая сторона. Есть исключения, но это именно исключения. Изюмина в том, что условно-комфортные условия, создаваемые обществом, работают как раз против женщин и увеличивают мужской сексизм. Чем громче процесс, в котором женщина доказывает свою правоту, тем строже условия приема женщин на работу, это ответная реакция. Зачем менеджеру брать на работу беременную, когда и так все права за ней, и она мир раком поставит, доказав всем своим знакомым его несправедливость?
Я не беру слово феминизация в кавычки, хотя нужно бы. Но это по сути анти-феминизация. Мир остается мужским. И отношения в нем неприятно сексистские: квартирохозяин время от времени будет повышать цену. Речь здесь не о сексе, а о спокойном сознании своей власти. Женщина как соперник мужчину не беспокоит, потому что у нее нет, и не может быть своей точки зрения на мир. Но если эту точку создавать, укреплять уже созданное и говорить о ней, и о разных проблемах, с этой точки зрения, ситуация может смягчиться, возникнет возможность диалога. А пока мужчина женщину просто не видит. Да и зачем ему? Ходит что-то вроде второй половины. Пока есть — все хорошо. Нет — все плохо, другую найду.
В моей жизни был смешной и по-своему замечательный случай. Он классический, можно и проиллюстрировать, и завершить разговор о феминизме. Два с половиной года я жила с мужчиной, это была вполне семейная жизнь: постель, еда, гости, ремонт. Но он в упор не признавал всего этого и ждал, когда встретит женщину своей мечты. То есть, отрицал очевидные вещи. Он не был сумасшедшим, но такова мужская точка зрения. Она очень проста: есть только то, что я считаю существующим. Женская точка зрения допускает варианты.
Из многих важных тем я сейчас хотел бы коснуться «инфляции знания как категории». Ты участвовала в вечере памяти Е. Головина, как раз — вместе с другими традиционалистами — говорившего об утраченном, другом типе знания. Тебе привелось общаться с ним? Какие впечатления остались от Южинского кружка?
Двойной вопрос. «Инфляция знания как категории» — часть первая, и она не связана (или связана косвенно) со второй частью, «об утраченном типе знания» в связи с так называемыми южинцами. Попробую ответить, разделяя части.
Инфляция знания как категории — мое словосочетание, эвристически возникшее в предыдущем ответе. Для того чтобы его полностью развернуть, мало интуиций, какие бы они ни были, но и отметать их нельзя. Есть ошибки в таблоидах, есть абсолютный непрофессионализм политиков, руководителей огромных строек, профессоров медицины и прочее тоже есть, не говоря о кинематографе, отечественных сериалах, над которыми только ленивый не смеялся, и которые я люблю. Например, гениальный «Ленинград 46», это многотомная киноэпопея. Как раз он мастерский, это отличное кино с усвоением советской школы, которую мир кино любил и использовал.
Но кроме интуиций нужны базовые знания социологии, причем не нахватом, как сейчас, а системно, как это было лет тридцать назад, хотя и тогда были сетования об оскудении знания. Говорить о социологии мне будет просто нелепо, но как пользователь могу сказать, что развития у этой науки нет, а есть интересные мутации. Какие — дело профи, а я как пользователь отказываюсь от большей части этой продукции.
Теперь о знании как категории. Представим, что знание едино, нет «сакрального» и «несакрального», есть просто знание, которое сила и опыт. И у знания есть все признаки, которые должны быть у категории. Тридцать — сорок лет назад «знать» было почетно. Теперь нет, потому что есть некий общий мозг, к которому в случае чего можно обратиться. Зато категория умения стала чрезвычайно важна. И возникла любопытная путаница: много умеющие люди думают, что они много знают, а знающие люди почти ничего не умеют. Отчасти средневековая ситуация: знающие скитаются по миру, таская за собой книги и опыт, а умеющие довольно быстро осваивают то, что успели схватить. Эта картинка отчасти метафорическая, но только отчасти.
Теперь о моем знакомстве с некоторыми из южинцев. Оно недолгое, неглубокое, но оставило самое симпатичное впечатление. Мне чрезвычайно с ними повезло, хотя могло повезти больше, если бы я не была законченным интровертом.
Сразу скажу, что традиционализм мне не особенно близок, тем более его необходимо-пластиковый извод последних лет, о нем уже достаточно наговорились и накричались на всех углах соцсетей. Однако именно традиционалисты: покойный Гейдар Джемаль и ныне здравствующий Александр Дугин, и многие их соратники, делают реальную работу, тщательную и огромную, по обработке текстов о философии и культуре и их распространению. О евразийстве не мне говорить, но у евразийцев есть хоть какая-то стройность и твердость во взглядах. У молодой правой левизны я этого не нашла. Но, повторяю, я не считаю себя традиционалистом и многие идеи о «знании» мне чужды. По взгляду на общественные процессы я скорее неомарксист с христианским уклоном. Однако речь о людях, которые мне сразу же и очень понравились.
В 2010 году 8 декабря на вечере памяти Евгения Головина увидела Аристакисяна, но тогда я не знала, что он его знал. В то время я довольно активно занималась неофициальной литературой двадцатого века и хотя поверхностно, однако знакома была с материалами о Южинском кружке. На вечере меня ожидало много интересного. Как оказалось, Дугин — прекрасный рассказчик, глубокий и интригующий, а кроме того очень артистичный. Я не знала тогда, что он пишет песни, для себя, не вынося это за некие пределы, но это можно было предположить. Дочь Евгения Всеволодовича Елена — женщина модерна: крупная, яркая, волевая и таинственная. Артур нас познакомил, и мы чуть позже подружились.
Через некоторое время (уже не помню, при каких обстоятельствах) меня пригласили участвовать в проекте «Поэтическая вселенная Головина». На выходе предполагалось нечто мистериальное, Елена написала сценарий и руководила постановкой. Это была весна 2012 года. Самое интересное, как и полагается подобным действам, происходило на репетициях.
Переводчик Владимир Сахарнов (Рынкевич) кроме того, что гениально читал французских поэтов, Рембо, «Пьяный корабль», еще и создавал довольно сильно беспокоящую, электрическую атмосферу, в которой халтурить, а не играть уже невозможно было. Так что никто не халтурил, все играли в полную силу.
Натэлла Сперанская, известный общественный деятель, казалась мне все репетиции и выступления в том числе некоей скорбной вакханкой, воплощением дикой красоты. У нее низкий, немного глуховатый голос, настраивающий на какой-то торжественно-траурный лад.
Сергей Жигалкин, переводчик, путешественник и, возможно, лучший сейчас знаток материалов о бароне Унгерне, читал Тракля и Бенна по-немецки. Жигалкин, кажется, был в чем-то красном на вечере, и он блондин. От него солнечное было впечатление. Мою урбано-ориентацию (ориентированность на городскую среду) он не понимал.
Дугин, наоборот, всегда был немного ироничен, глаза поблескивали, ему, очевидно, все нравилось. Порой он пускался в мемуарные тирады, порой что-то начинал объяснять из того, что ему пришло в голову. Слушать его было очень интересно. По сценарию я представляла перевод «Святой» Малларме. Но по-французски я не читаю. Дугина это изумило, но он как-то быстро, легко и спокойно взял на себя французский текст, а мне остался перевод Головина. Надо сказать, работать с людьми, знающими по три-четыре языка чрезвычайно трудно, если знаешь только один. Конечно, была волна интеллектуального снобизма, но меня это не травмировало. Хотелось тут же все языки и выучить.
Всего на вечере у меня было три момента: «Святая» Малларме, строфы из «Пьяного корабля», который блистательно начал Рынкевич, говоря, как настоящий парижский клошар, и собственно мой подарок, мое стихотворение для Головина — «Антиохия», 1992.
Артур держался хозяином и в стороне, репетиции происходили у него дома. Кроме названных людей были многочисленные гости. Например, Игорь Дудинский.
Вечер состоялся 30 мая на .
Всего было несколько вечеров памяти Евгения Головина, я участвовала в двух. И каждый раз самое трудное и интересное было на репетициях.
В 2011 в журнале «На Середине Мира» я решила разместить стихи Евгения Головина, его книгу «Туманы Черных лилий». Избранный круг считал его великим поэтом, мои знакомые литэстеты едва не плевались от его стихов, что тоже показатель. А я усмотрела в них нечто удивительное и уникальное. Головин как переводчик настолько хорошо чувствовал язык и его оттенки, что без особого труда воспроизвел в стихах особенности этого языка, но уже на своем родном. Это нечто бесконечно интересное, до глубоких нелепостей, до мелочей говорка, нечто подлинное. А в эссеистике Евгений Головин бог, так что читайте его эссе.
Собственно южинцев, Джемаля и Мамлеева, знала лично, но это было неглубокое знакомство. Я все же человек для южинцев внешний. Но впечатления были значительными. Мамлеев был уже очень пожилым, тугим на ухо. Но как-то слышал, что ему говорят, отвечал бережно. И сам, конечно, был рассказчик от Бога.
Гейдар Джемаль на одном из вечеров памяти Головина выступил с небольшим рассказом о дендизме, и я долгое время, да и сейчас, нахожусь под впечатлением, как он направляет и затачивает мысль. Один из самых умных и тонких людей нынешнего времени.
Александр Ф. Скляр поехал в Луганск в самом начале известных событий. Я слышала, как он рассказывал о поездке, это был почти готовый детектив. Альбом «Русское солнце», песни Вертинского, записан что называется из первых рук. Анастасия Александровна дала согласие. Я была на презентации этого альбома и увидела, что Скляр еще и отличный актер.
Я очень редко бывала у Артура, где южинцы в основном собирались. У меня и желания не было внедряться, потому что среда все же мне чужая. Но именно как люди и их отношения между собою южинцы мне очень понравились. Я почти нигде такого не видела.
Знание ведь греет человека, без знания человеку холодно. Южинцы могли посадить за свой стол человека из другого мира, услышать его, потому что сами обладали знанием и видением. Это знакомство мне было как подарок и как прибавление знания.
Твоя собственная презентация «Хроники» сопровождалась твоим фотоартом — говорю так, потому что видеопроекции твоих коллажных, многослойных фотографий нужно и определить как-то необычно. Фотография для тебя иллюстративна или самостоятельна? Вообще кем ты себя больше ощущаешь — прозаиком, поэтом, критиком? Бывшим хиппи, которых (бывших), как известно, не бывает?
28 мая 2018 в библиотеке имени Некрасова на Бауманской действительно прошла презентация «Неоконченной хроники перемещений одежды». Она задумывалась как медиавечер, то есть видео, фото и живое чтение включены и действуют в полную мощность. Например, клип с отрывком из романа проиллюстрирован моей графикой и фото. Клип заканчивается, чтение продолжаю я сама. Наиболее интересно этот прием работает в стихотворениях. Борис Колымагин, поэт, журналист, исследователь неофициальной культуры, даже сказал, что намеревается взять этот метод на вооружение. У меня был опыт медиавечеров, кстати, именно медиа-часть организовывала сама: составляла клипы, делала и обрабатывала фотографии, работала со звуком. Первый прошел 21 февраля 2016 года в Музее Серебряного века, второй — в начале июня в библиотеке имени Трифонова.
Пока что опыты мои концептуальны, но в концептуальности есть смысл: хотя бы очертить границы произведения. Ничего против гламура не имею, я сама в семнадцать была довольно гламурной девицей, но в этом гламуре, как теперь вспоминаю, было много панка. Знакомство с системой мой характер сильно смягчило.
Конечно, я поэт. Со всеми выходами, входами и заходами поэта, как это описывали в классической литературе. И никем другим себя не вижу примерно с 13 лет. Но мне многое кроме поэзии интересно, и потом, отношения с людьми все же накладывают обязательства, которые волей или неволей нужно выполнять. Так я пишу рецензии, предисловия, обзоры, выступаю на вечерах. Мне все это совершенно не нужно, и флаг в руки тем, кому это нужно. Я не считаю, что современная московская литературная среда такое уж страшное сокровище, что за ее сохранение нужно бороться, но это еще болезненно-живое образование, и я сама его часть. Что делать, кто виноват, отношения в семье.

Просто выхожу из себя, правда, скорее тихо, чем громко, когда меня называют критиком. Ярлыки: критик, прозаик, даже поэт — в нынешнем литсообществе выглядят непрезентабельно, я сама этих слов не употребляла бы, но альтернативы нет. Все мы, так называемая литературная среда, по сути занимаемся имитацией, и всем это ужасно нравится, и конечно, к великой русской литературе это имеет отношение, но настолько косвенное, что она тут почти ни при чем. При чем тот, кто поставил тебе пломбу на зуб подешевле, вот и пишешь о его стихах в какое-нибудь сетевое издание. По счастью, со мной такого пока не случалось. Но бартер: текст за текст, я напишу, но напиши и ты, явление обычное, что, конечно, угнетает. Однако повторяю, альтернативы нет, вовне еще хуже. У меня была пара телеопытов, и я телевидения теперь просто избегаю.
Фотографией я не занимаюсь профессионально, но как человек рисующий люблю ее. Есть периоды, когда я не беру камеру в руки и ничего особенно не выжидаю, типа голода на съемку или вдохновения. Но у меня есть минимум четыре фотоальбома, все они есть в моей хронике Фейсбука, которые можно объединить в один проект, распечатать со стороной в метр и заполнить ими два выставочных этажа. Это штучные вещи, хотя и не без гламура. То же могу сказать и о графике, но графику сейчас не любят, сделать выставку графики трудно. Около 90 работ за 20 лет, учитывая то, что я не профи в изо, и не занимаюсь этим под выставки или заказ.
Проза рождалась сама по себе, как кто-то попросил, и я послушно исполнила эту просьбу. Но считать себя прозаиком мне сложно. Я не общаюсь с прозаиками и не понимаю этих мелких шоу, которые всякий, написавший второй или третий роман, устраивает в сети и не только.
Знакомство с волосатыми обострило чувство семьи и родины, дало возможность все это оценить и переоценить. Мысль, что человечество вступило в эпоху, когда кровное родство становится косвенным, меня не покидает. Эпоха цифрового родства, я бы так сказала. Это страшно, но очень интересно. Моя молодость пришлась как раз на первые годы этого опыта в стране — даже не знаю, как назвать, — которой уже нет. Однако нынешняя Россия — дело не менее интересное, и именно в ней я получила возможность жизни и творчества. В стране моего детства это вряд ли было бы возможно.
Чего больше всего хочется: читать книги. Рисовать, слушать музыку и читать книги. Но в нынешних моих обстоятельствах это почти невозможно, и в этой фразе нет никакого крика о помощи. В конце года в издательстве «НЛО», надеюсь, выйдет большой сборник моих стихотворений. В новой папке стихотворений достаточно на небольшую книгу.


